минобрнауки россии
федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего профессионального образования
«ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
| Гуманитарный институт |
| Кафедра истории |
Реферат
по дисциплине История России ( до XX века)
на тему:
«Норманнская теория и её современная трактовка.»
Выполнила:
студентка
Тепленичева Е.П.
группы 030600.62-0011ОП
Проверил:
преподаватель
Алексеева Н.В.
Череповец, 2012
Содержание
Введение. 3
Глава 1. Теории происхождение славян. 5
Глава 2. Зарождение норманнской теории. 7
Глава 3. Эволюция норманизма в советское время. 11
Глава 4.Современная ситуация. 18
Заключение. 21
Литература. 22
Введение
Вопрос о том, кто такой Рюрик и откуда пошла земля, русская является одним из самых спорных. Достаточно продолжительное время большое количество учёных пытаются выяснить, что же способствовало созданию Древнерусского государства. И одним из главных источников в этом вопросе является «Повесть временных лет».
По данным Повести временных лет ильменские словене и их соседи - финские племена мери - платили дань варягам, но затем, не желая терпеть насилия, «...В год 6370 (862) изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: "Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву". И пошли за море, к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, - вот так и эти прозывались. Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: "Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами". И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, - на Белоозере, а третий, Трувор, - в Изборске."
Далее Повесть временных лет сообщает о том, что бояре Рюрика Аскольд и Дир "отпросились" у своего князя в поход на Византию. По пути они захватили Киев и самочинно назвались князьями. Но Олег, родственник и воевода Рюрика, в 882 г. убил их и стал княжить в Киеве с малолетним сыном Рюрика Игорем. Таким образом, в 882 году под властью одного князя объединились Киев и Новгород, и было образовано Древнерусское государство Киевская Русь.
Таково летописное предание о начале русской государственности. Издавна вокруг него ведутся бесконечные споры. Рассказанная летописцем история послужила основанием для создания в XVIII веке «норманнской теории» возникновения Древнерусского государства. Основоположниками этой теории были работавшие в России в ХVIII веке немецкие ученые Байер, Миллер и Шлецер. Они считали, что главную роль в становлении Киевской Руси сыграли варяги, под которыми понимали норманнов.
Норманнская теория практически сразу после своего создания вызвала резкую критику. Впервые она была высказана в рамках антинорманнской теории, сформулированной М.В. Ломоносовым и основанной на гипотезе об абсолютной самобытности славянской государственности.
С момента создания норманнской и антинорманнской теорий прошло уже более двух с половиной столетий. За это время накоплено огромное количество нового материала, а надежды на то, что вопрос будет окончательно решен, не оправдываются. И норманнская, и антинорманнская теории развивались с разной интенсивностью все это время, и до сих пор каждая имеет большое количество сторонников.
Целью данной работы является изучение истории развития норманнской теории и её критики на протяжении двух с половиной столетий.
Объектом исследования является процесс образования Древнерусского государства Киевская Русь, а предметом - норманнская теория, как попытка реконструкции процесса образования Древнерусского государства Киевская Русь.
Историография.
Первыми вопрос о происхождении затронули российские ученые немецкого происхождения Г.З. Байер, Г.Ф. Миллер и А.Л. Шлецер. То произошло ещё в XVIII веке. Одновременно возникает антинорманнское направление, представителями которого являлись М.В. Ломоносов и В.Н. Татищев.
В XIX веке норманнскую версию приняли Н. М. Карамзин, а за ним практически все крупные русские историки этого века. А представителями антинорманистского направления были С. А. Гедеонов и Д. И. Иловайский.
Советская историография подошла к норманнской проблеме на государственном уровне. Изучали её не только известные советские историки, но и археологи. Самыми известными были Б.Д. Греков, Б.А. Рыбаков, М.Н. Тихомиров, В.В. Мавродин, М. И. Артамонов, В. В. Седов, А. П. Новосельцев.
Глава 1. Теории происхождение славян
Первая попытка ответить на вопросы, откуда, как и когда появились славяне на исторической территории, относится к XII столетию и принадлежит Нестору — автору Повести временных лет. Исходя из библейского предания, согласно которому родиной всего человечества была Передняя Азия, летописец начинает историю славян с вавилонского столпотворения, разделившего человечество на 72 отдельных народа и вызвавшего расселение племен в разных направлениях.
«От сихъ же 70 и 2 языку бысть языкъ словенескъ...
По мнозехъ же времянех сели суть словени по Дунаеви, где есть ныне Угорьска земля и Болгарьска. И от техъ словенъ разидошася по земле и прозвашася имены своими, где седше на которомъ месте. Яко пришедше седоша на реце имянемъ Марава, и прозвашася морава, а друзии чеси нарекошася. А се ти же словени: хровате белии и серебь и хорутане. Волхомъ бо нашедшемъ на словени на дунайския, и седшемъ в них и насилящем имъ, словени же ови пришедше седоша на Висле, и прозва-шася ляхове, а от техъ ляховъ прозвашася поляне, ляхове друзии лутичи, ини мазовшане, ини поморяне.
Тако же и ти словене пришедше и седоша по Днепру и нарекошася поляне, а друзии древляне, зане седоша в лесех; а друзии седоша межю Припетью и Двиною и нарекошася дреювичи; инии седоша на Двине и нарекошася полочане, речьки ради, яже втечеть въ Двину, имянемъ По-лота, от сея прозвашася полочане. Словени же седоша около езера Илмеря, и прозвашася своимъ имянемъ, и сделаша градъ и нарекоша иг Новъгородъ. А друзии седоша по Десне, и по Семи, по Суле, и нарекошася северъ. И тако разидеся словеньский языкъ, тем же и грамота прозвася словеньская».[1]
Итак, по Нестору древнейшей территорией славян были земли по нижнему течению Дуная и Паннония. Поводом для расселения славян с Дуная было нападение на них волохов.
Летописный рассказ о расселении славян с Дуная явился основой так называемой дунайской (или балканской) теории происхождения славян, весьма популярной в сочинениях средневековых авторов (польские и чешские хронисты XIII — XV вв.). Это мнение разделяли и некоторые историки XVIII — начала XX в., в том числе и исследователи русскойистории (С. М. Соловьев, В. И. Ключевский, И. П. Филевич, М. Н. Погодин и др.).
К эпохе средневековья восходит также скифо-сарматская теория происхождения славян. Впервые она зафиксирована Баварской хроникой XIII в., а позднее воспринята многими западноевропейскими авторами XIV — XVIII вв. Согласно их представлениям предки славян опять-таки из Передней Азии продвинулись вдоль черноморского побережья на север и осели в южной части Восточной Европы. Древним авторам славяне были известны под этнонимами скифы, сарматы, аланы и роксоланы. Постепенно славяне из Северного Причерноморья расселились на запад и юго-запад.
Отождествление славян с различными этническими группами, упоминаемыми древними авторами, характерно для средневековья и первого этапа нового времени. В сочинениях западноевропейских историков можно встретить утверждение, что славяне в древности назывались кельтами. Среди южнославянских книжников было распространено мнение, что славяне и готы — один и тот же народ. Довольно часто славян отождествляли с фракийцами, даками, гетами и иллирийцами.
Научные изыскания по проблеме славянского этногенеза начинаются с 30-х годов XIX в., когда появилась книга известного исследователя славянских древностей П. И. Шафарика «Славянские древности» . В основе его исторических построений лежит анализ сведений античных авторов о венедах и этногеографических данных Иордана. П. И. Шафарик попытался показать, что славяне искони заселяли обширные пространства Средней Европы. Славянский язык, по представлениям этого исследователя, впервые зазвучал к северу и северо-востоку от Карпат, т. е. на территории Галиции, на Подолии и Волыни. Сформулированная П. И. Шафариком прикарпатская теория происхождения славян была весьма популярна в XIX в.
В те же годы лингвист Ф. Бопп показал, что славянский язык при-надлежит к индоевропейской языковой семье, куда входят также индо-иранский, армянский, греческий, кельтский, италийский, германский, балтский, иллирийский и другие, в том числе исчезнувшие ныне языки . Согласно индоевропеистике, все они развились из единого индоевропейского языка. Формирование отдельных языков было обусловлено изолированным развитием индоевропейских диалектов, а также ассимиляцией иноязычных племен.
Сравнительное историческое языкознание выявило степени родства и близости между различными индоевропейскими языками. Так, установлено, что славянский язык наиболее близок к балтским и германским. Определены следы ирано-славянского соседства и языкового контакта. Поставлены вопросы о славяно-кельтских, славяно-иллирийских и славяно-фракийских контактных взаимоотношениях. В результате был сделан вывод, что древние славяне жили где-то между балтами, германцами и иранцами. Скорее всего, они также соседили с кельтами, фракийцами и иллирийцами. На этой основе была предложена схема размещения этих индоевропейских племен в древности. Однако при локализации этой схемы на географической карте исследователи встретились со многими трудностями.[2]
Глава 2. Зарождение норманнской теории
По общепринятому мнению Г.З.Байер считается основоположником немецкого норманизма. Именно он всегда упоминается как первый исследователь варяго-русской проблемы в большинстве современной литературы. В зависимости от позиции того или иного автора зависит и отношение к Байеру. Действительно, этот немецкий академик оставил заметный историографический след в изучении варяго-русского вопроса.
Байер начал с пересказа Начальной летописи об изгнании и последующем приглашении варягов, вкратце излагая летописную легенду.
«От начала Руссы, или Россияне владетелей Варягов имели… По сему часто о Варягах упоминается в Русских летописцах…».
Однако проблема состояла в том, кем были летописные варяги и где они жили изначально. Как уже отмечалось, некоторые авторы, предшественники Байера, начиная с эпохи Ивана Грозного, выводили варягов из Пруссии. Именно поэтому Байер критиковал версию родословной российского правящего дома от римского императора Августа. Однако в первой половине XVIII века был вполне очевиден вымысел этой родословной легенды, сочинённой московскими политиками. Здесь Байер «бился с мельницами», доказывая надуманность версии, фантастичность которой и не оспаривалась.
Дальнейшая логика байеровских рассуждений была чрезвычайно проста. Упомянутых в летописи варягов он признал скандинавами, из чего следовало, что основателем княжеской династии Древнерусского государства был варяжский (то есть норманнский) князь (конунг) Рюрик, который приплыл с дружиной по приглашению славянских послов. И после этого название Русь перешло на восточных славян.
Правда, Байер приводил в подтверждение своей теории некоторые аргументы. Он первым обратил внимание на сообщение Бертинских анналов о послах «народа Рос» в Ингельгейме при дворе Людовика. Для него было важно, прежде всего, упоминание в одном источнике русов и свеонов, под которыми он понимал шведов. Немецкого академика вовсе не смутило то обстоятельство, что автор Бертинских анналов разделял эти два народа.
Варягами, по мнению Байера, на Руси называли шведов, готландцев, норвежцев и датчан. В «доказательство» он приводит «скандинавские» имена варягов, коверкая их по собственному усмотрению так, что имя Святослав, например, получалось производным от шведского Свен со славянским окончанием «слава». Русского языка Байер не знал.
Такой была первоначальная научная основа норманизма, которая не могла быть достоверно подтверждена даже в первой половине XVIII века, используя весь комплекс известных на то время данных. Но основывалась на сомнительных во всех отношениях шведских источниках и научном невежестве, подкреплённым политическим интересом. В научном отношении концепция Байера представляется совершенно нелогичной на том фоне, который существовал в тогдашней немецкой исторической науке.[3]
Г.Ф.Миллер обратился к варяжской проблеме в начале 30-х годов XVIII века. В 1732 году в своём журнале «Sammlung russischer Geschichte» он опубликовал статью «Известие о древней рукописи русской истории Феодосия Киевского». Эта статья и содержала, собственно, истоки норманизма Миллера. Здесь он дал подробный пересказ содержания «Повести временных лет» с элементами исследовательского характера в виде
авторских пояснений, а главное — проводил мысль о том, что варяжские князья были выходцами из Скандинавии, то есть были шведского происхождения.
Миллер сформулировал проблему, вполне типичную для историографии
варяго-русского вопроса первой половины XVIII века: «Рюрик, откуда призван ли, чтоб стать самовластным государем?»[4]
Роль первотолчка в норманистской интерпретации данной проблемы сыграли краткие миллеровские пояснения.
Но в то же время, ссылки на миллеровские исследования весьма не часто содержаться в немецких работах, касающихся варяго-русского вопроса. В научной среде Миллер мог вызывать интерес как издатель источников по русской истории, которые занимали центральное место в «Sammlung russischer Geschichte». Но именно «благодаря» Миллеру и некорректному переводу опубликованных источников, на Западе летописец Нестор достаточно долгое время был известен под именем Феодосия.
«Диссертация» Миллера в целом обобщала и систематизировала взгляды Байера, которого вот уже десять лет не было в живых. Печатные варианты доклада долгое время считались уничтоженными. Первоначально диссертация была написана на латинском языке, переведена на русский, и напечатана на обоих языках.
Основная идея этого произведения была связана с доказательством скандинавского происхождения Рюрика и названия «Русь». Миллер высказал мысль, что в финно-угорских языках слова, обозначающие шведов, имеют корень, близкий по звучанию к слову «Русь». Развивая положения Байера, Миллер делал вывод об организующей роли варягов в создании русского государства.
Важнейшую роль в концепции Миллера играл его комментарий летописного известия о варяжской дани со славян и об изгнании заморских данщиков накануне появления на исторической арене князя Рюрика. Победителем новгородских словен Миллер считал знаменитого датского викинга Рагнара Лодборга, который «завоевал Россию, Финляндию и Биармию и отдал оные земли во владение своему сыну Витзерку». Но последний якобы погиб в Прибалтике и словене смогли освободиться.
Против Миллера и его концепции выступили русские учёные М.В. Ломоносов, В.К. Тредиаковский, С.П. Крашенинников, Н.И. Попов. Академические дебаты вокруг его «диссертации» чрезвычайно важны для историографии норманнской проблемы. Кроме вопроса о происхождении Руси и этнической принадлежности варягов, оппоненты Миллера обратили внимание на проблему источников. М.В. Ломоносов в своё время попытался устранить здесь некоторые противоречия.
Ломоносов особенно возражал против метода Миллера принимать тезисы Байера без проверки. Он полагал, и не без оснований, что «слово «рус», «русский», северным языкам совершенно незнакомо, но широко распространено на южном побережье Балтийского моря. Так, один устьевой рукав Немана носит название Руса. Здесь же следует искать и родину Рюрика». Действительно, точка зрения Миллера не находила безупречного подтверждения. Например, в шведском словаре «100 000 заимствованных слов и имён в шведском языке» корень «рус» стоит в числе заимствованных. Кроме того, заимствованными указаны и все слова, содержащие этот корень. Имеется множество других доказательств.
Таким образом, тезисы немецкой норманнской теории уже к середине XVIII века столкнулись с жёсткими контраргументами и в отечественной, и в собственно немецкой науке. Впоследствии, с поворотом к норманизму, немецкая наука политизировалась и фактически отказалась от объективного исследования варяго-русского вопроса.[5]
Говоря о норманнской теории в России, нельзя не затронуть проблему развития норманизма. На протяжении десятков лет норманистская точка зрения происхождения Руси прочно существовала в исторической науке на правах совершенно точной и непогрешимой доктрины. Причём среди ярых сторонников норманнской теории, кроме зарубежных историков, этнографов, было множество и отечественных учёных. Этот факт вполне наглядно демонстрирует, что долгое время позиции норманнской теории в науке вообще были прочны и непоколебимы.
Многочисленные и ожесточённые споры между норманистами и ненорманистами, начиная с первой половины XVIII века, велись преимущественно по вопросу этнического происхождения Рюрика и варягов. В итоге дискуссия явно затянулась и привела к заметному перевесу норманистов. Количество сторонников норманнской теории выросло, а полемика со стороны их противников стала ослабевать.
На ведущую роль в рассмотрении этого вопроса в конце XIX века выдвинулся норманист Вильгельм Томсен. После того, как в России в 1891 году была опубликована его работа «Начало Русского государства», где были с наибольшей полнотой и ясностью сформулированы основные аргументы в пользу норманнской теории, многие русские историки пришли к мнению, что норманнское происхождение Руси можно считать доказанным. И хотя антинорманисты (Иловайский, Гедеонов и др.) продолжали свою полемику, большинство представителей официальной науки обратилось к норманистским позициям. В учёной среде установилось ложное представление о произошедшей в результате опубликования работы Томсена победе норманистской концепции истории Древней Руси. Прямая полемика против норманизма почти прекратилась. А.Е. Пресняков, например, полагал, что «норманистическая теория происхождения Русского государства вошла прочно в инвентарь научной русской истории».
Также основные положения норманнской теории признавало подавляющее большинство советских учёных. Надо отметить, что при этом в XVIII — начале XX вв. западноевропейские историки признавали тезис об основании скандинавами Древней Руси, но специально этой проблемой не занимались. На протяжении почти двух столетий на Западе было всего несколько академических норманистов.
Крупнейший учёный А.А. Шахматов посвятил одну из своих книг проблемам происхождения славянства, русского народа и Русского государства. Отношение Шахматова к норманнской проблеме всегда было сложным. Объективно его труды по истории летописания сыграли важную роль в критике норманизма и подрывали основы норманнской теории. На основании текстологического анализа летописи, им был установлен поздний и недостоверный характер рассказа о призвании варяжских князей. Но вместе с тем он, как и подавляющее большинство русских учёных того времени, стоял на норманистских позициях.[6]
Глава 3. Эволюция норманизма в советское время
В начале 30-х годов XX века на смену учёным старой школы пришла «красная профессура», «учёные новой формации». Но вплоть до середины 30-х годов у основной массы историков сохранялось представление о том, что варяжский вопрос уже давно решён норманистами. Первыми с антинорманистскими идеями выступили археологи, направившие свою критику против положений концепции шведского археолога Т. Арне, опубликовавшего свою работу «Швеция и Восток». Археологические раскопки 30-х годов дали материалы, противоречащие концепции Арне. А.В. Арциховский подверг критике утверждение норманистов о существовании норманнских колоний в древнерусских землях, показав, что большинство скандинавских вещей найдено в погребальных памятниках, в которых захоронение произведено не по скандинавскому обычаю.
Но советские учёные-археологи не смогли выработать критерий исследования, при котором об этнической принадлежности захоронения должен свидетельствовать не погребальный инвентарь, а антропометрические показатели, позволяющие точно определить расовый тип. Вещи обнаруженные в захоронениях не могут дать представления об этнической принадлежности их владельца. Можно ли допустить такое, что через тысячу лет археологи будущего будут писать, что русские жили там, где обнаружены остатки деталей автомата Калашникова? Сейчас с этим оружием воюет полмира, и данное утверждение кажется абсурдным. Но то же самое касается и древней истории. Почему керамика или украшения не могли быть обыкновенной модой, а оружие таким же «интернациональным» воинским атрибутом? Точно установить этническое происхождение в захоронении может только антропологическое изучение скелета и интерпретация обнаруженные родовых знаков (если такие находки имеются) при учёте всего погребального комплекса с реконструкцией похоронного обряда, насколько это возможно. Разумеется, расовое изучение останков возможно только при исследовании захоронения с трупоположением. Если мы имеем дело с трупосожжением, то установить этническое происхождение умершего крайне сложно.
Но теория Арне получила в последующие десятилетия поддержку со стороны языковедов. Была сделана попытка при помощи анализа топонимики Новгородской земли подтвердить существование в этих местах значительного числа норманнских колоний. Это очередное норманистское построение также было подвергнуто критическому разбору и опровергнуто. Северно-русская топонимика, скорее, связана с топонимикой Северной Германии (в части бывшей ГДР), где и находились заморские «варяжские земли».
После завершения перелома в историографии, связанного с утверждением «марксисткой школы», первым с прямой критикой основных положений норманнской теории выступил В.А. Пархоменко. Он разобрал основные доводы норманнской теории и показал, что они не основываются на серьезном анализе всей совокупности источников, и поэтому совершенно неубедительны.
Процесс возникновения государственности на Руси в сороковых годах исследовал В.В. Мавродин, в частности, он рассматривал вопрос об участии норманнов в формировании государства на Руси. В его книге признавалось норманнское происхождение княжеской династии, но вместе с тем указывалось, что династия «быстро слилась с русской, славянской правящей верхушкой» и стала бороться за её интересы. Но в то же время следует отметить, что в тексте монографии имелись и прямые формулировки, преувеличивавшие роль норманнов в процессе образования Древнерусского государства.
В послевоенные годы критика норманизма получила своё развитие в работах С.В. Юшкова. По мнению В.П. Шушарина, норманнская теория «...превратилась в средство фальсификации истории, то есть стала концепцией, лежащей вне науки». И.П. Шаскольский придерживался более мягкой точки зрения, полагая, что норманизм — это научная теория, опирающаяся на длительную научную традицию, и критика этой теории должна носить характер серьезной, глубоко обоснованной научной полемики.
В.В. Фомин, однако, справедливо указывал на фиктивный характер советского антинорманизма, когда, с одной стороны, говорили о том, что викинги-скандинавы не имели отношения к процессу образования Древнерусского государства, но с другой — продолжали считать ими варягов. «Сохранив основополагающий тезис норманизма о скандинавской природе варягов, — пишет Фомин, — советские учёные впали в самообман, убаюкивая себя мыслью, что антинаучность норманизма доказана марксистской наукой, а под «настоящими норманистами» стали понимать лишь тех, кто «утверждал неспособность славян самим создать своё государство».
Вопрос о происхождении варягов ставился в славяно-германской плоскости. Эта проблема признавалась одной из главнейших для истории восточных славян и не связывалась с европейской историей. Между тем истоки варяго-русского вопроса надо искать на южном побережье Балтики, в этнической среде, которая была не славянской и не германской (в понимании норманистов, которое идёт в разрез с тем смыслом, который вкладывал в термин «германцы» Тацит и другие древние авторы). Варяго-русский вопрос необходимо рассматривать в связи с общей проблемой происхождения русов, которая может быть решена только на общеевропейском материале.
Привлечение принципиально новых источников, таких как немецкие генеалогии, с применением принципиально нового методологического подхода поможет разрешить вековой клубок противоречий и снизить дискуссионную остроту варяжского вопроса, что совершенно необходимо для позитивного восприятия древнерусской истории.[7]
После исследований Шахматова в области истории русского летописания ученые стали значительно осторожнее относиться к летописным известиям о происшествиях IX века. Не обошлось, впрочем, и без крайностей. В. А. Пархоменко, например, призывал «совершенно скептически» отнестись «к летописному повествованию о призвании на княжение Рюрика» и не придавать этому «северному легендарному эпизоду» серьезного научного значения.
Однако не все историки столь недоверчиво воспринимали летописные известия 862 года. В «Русской истории с древнейших времен» М. Н. Покровского, написанной еще в дореволюционное время, говорилось, что в вопросе о том, как появилась династия Рюриковичей у восточных славян, «всего безопаснее» придерживаться текста летописи.
Неоднократно обращался к данному сюжету Б. Д. Греков. Следует отметить, что его мнение не оставалось неизменным. В ранних изданиях монографии «Киевская Русь» он отмечал, что киевский летописец Сильвестр использовал запись новгородского летописца, приспособив «новгородское сказание к своим собственным целям», назидательно по замыслу: «Отсутствие твердой власти приводит к усобицам и восстаниям. Восстановление этой власти (добровольное призвание) спасает общество от всяких бед. Спасителями в Киев явились варяжские князья, в частности Рюрик. Рюриковичи несли эту миссию долго и успешно, и лишь в конце XI в. снова повторились старые времена – „встали сами на ся, бысть межи ими рать велика и усобица“. Призвание Мономаха в Киев таким образом оправдано, и долг киевлян подчиняться призванной власти, а не восставать против нее»[8]. Греков не отрицал полностью факта призвания Рюрика, хотя и сомневался в точности передачи его подробностей. Какие же реальные события увидел исследователь в предании о Рюрике? «Если быть очень осторожным и не доверять деталям, сообщаемым летописью, – писал он, – то все же можно сделать из известных нам фактов вывод о том, что варяжские викинги частью истребили местных князей и местную знать, частью слились с местной знатью в один господствующий класс. Так началось сколачивание аляповатого по форме и огромного по территории государства Рюриковичей».
Очень скоро Греков стал перестраиваться в своих суждениях, смещая акценты, а то и вовсе меняя их смысл. Уже в издании 1939 г. он, опираясь на результаты исследований Шахматова, уличает летописца, стремившегося возвеличить род Рюриковичей, в склонности к норманизму. В известиях Повести временных лет о Рюрике автор видит «переделку старых преданий о начале русской зеши, освещенную сквозь призму первого русского историка-норманиста, сторонника теории варяго-руси». Вносит он изменения и в историческую канву предания, а что касается призвания, повествует с некоторой неохотой: «Варяжские викинги, – допустим, даже и призванные на помощь одной из борющихся сторон, – из приглашенных превратились в хозяев и частью истребили местных князей и местную знать, частью слились с местной знатью в один господствующий класс. Но сколачивание аляповатого по форме и огромного по территории Киевского государства началось с момента объединения земель вокруг Киева и, в частности, с включения Новгорода под власть князя, сделавшего Киев центром своих владений». Греков, как видно, круто меняет ход начальной истории Русского государства, перенося главную историческую сцену с севера на юг, из Новгорода в Киев. Давал о себе знать и нарастающий синдром норманизма, парализовавший вскоре исследовательскую мысль. Но некоторое время Греков не находил ничего невероятного в самой личности Рюрика, возглавившего «вспомогательный наемный датский отряд», который прибыл на «новгородскую территорию» по приглашению одной из борющихся сторон. В последней, посмертной публикации «Киевской Руси» 1953 г., куда вошли поправки автора к тексту издания 1949 г., отношение к летописной записи о варягах еще более настороженное: «Есть большое основание сомневаться в точности предания о Рюрике, о котором тенденциозно говорят наши летописи. Несомненно, призвание трех братьев – ходячая легенда, весьма популярная в XI-XII веках. Возможно предположить лишь факт найма новгородцами варяжских вспомогательных отрядов. Такого рода факты имели место и при Владимире и Ярославе. Но это совсем не „призвание“, на котором базируются норманисты».
Приглашение словенами «варяжской наемной дружины» допускал и В. В. Мавродин. Один из новгородских старейшин, полагал он, пригласил на помощь в борьбе с другими правителями «какого-то варяжского конунга, которого летописное предание назвало Рюриком». Явившись с дружиной в Новгород, варяжский викинг «совершает переворот, устраняет или убивает новгородских „старейшин“, что нашло отражение в летописном рассказе о смерти Гостомысла „без наследия“, и захватывает власть в свои руки». Мавродин не уверен, «существовали ли реальные Рюрик, Синеус и Трувор». Но нет никаких оснований «обязательно считать их легендарными».
Стремление автора выявить реальное значение варягов в образовании Древнерусского государства, было расценено как сближение с норманизмом, как уступка норманистской концепции. В вину Мавродину было поставлено даже то, что он в отдельных случаях называл варягов «купцами», тогда как их следовало изображать как «разбойничьи дружины» или, по крайней мере, как «воинов-наемников». Эта, с позволения сказать, «критика» являлась веянием времени: в стране начиналась охота на «космополитов». Чтобы избежать обвинений в норманизме, лучше было не замечать конкретных реалий в летописном рассказе о призвании варягов или же свести их к минимуму.
В это тяжелое для исторической науки время появляются труды Д. С. Лихачева по истории летописания. В них затрагивался и вопрос о достоверности известий летописца о Рюрике; «Легенда о призвании трех братьев варягов – искусственного, „ученого“ происхождения», – пишет Лихачев, причем в ней имеется «примитивная и отсталая часть», которую взяли на вооружение «современные псевдоученые норманисты». Автор подчеркивает ненародный характер легенды, «в основном созданной в узкой среде киевских летописцев и их друзей на основании знакомства с северными преданиями и новгородскими порядками». Историческое зерно ее невелико. Она была «на руку печерским летописцам, стремившимся утвердить родовое единство русских князей; легенда утверждала династическую унификацию: все князья – члены одной династии, призванной на Русь в качестве мудрых и справедливых правителей. Как представители одного рода, они должны прекратить братоубийственные раздоры: такова мысль киевских летописцев, постоянно проводимая ими в своих летописях». Легенда служила и еще одной цели. Так, Русское государство, с точки зрения греков, «было обязано своим происхождением Византии. Законная власть явилась на Русь лишь после ее крещения и была неразрывно связана с церковью. Вот с этой-то греческой точкой зрения и боролись печерские летописцы». Привлекает внимание то обстоятельство, что автор ищет «историческое зерно» легенды не в событиях, каким она посвящена, а в политических коллизиях времен внуков Ярослава, то есть не в конце К в., а в конце XI – начале XII столетия. Такое хронологическое переключение, конечно, сглаживало остроту проблемы, но придавало ее изучению некоторую односторонность, недоговоренность и расплывчатость.
Аналогичную хронологическую перестановку произвел и С. В. Юшков. «Уже давно было отмечено, – рассуждал он, – что автор древнейшего летописного свода был далеко не тем летописцем, который добру и злу внимал равнодушно. При работе над своим произведением он планомерно и настойчиво проводил ряд тенденций, которые были интересны Киевской правящей верхушке. В условиях распада Киевского государства надо было всячески подчеркнуть значение государственного единства, значение единой сильной власти, указав, что при отсутствии этой власти неизбежны междоусобицы. Надо было всячески возвеличить правящую династию, показав ее роль в организации Киевского государства». Юшков отдает должное мастерству летописца и отмечает, что его рассказ о призвании князей составлен с большим искусством, так что трудно отделить в нем правду от вымысла. И все же он, по Юшкову, сплошь легендарен. Юшков не видел никакой надобности в гипотезе Грекова, «объясняющей появление норманских варяжских князей в Новгороде приглашением их вместе с военным отрядом и с дружиной одной из враждовавших Новгородских группировок».
Так в исторической науке выхолащивалось конкретное содержание летописных известий о призвании варягов. В них вкладывался лишь идейный смысл, приуроченный к историческим событиям конца XI – начала XII века. Сама же варяжская проблема становилась ареной идеологического и политического противостояния. Красноречиво в этой связи заявление Грекова: «Легенда о „призвании варягов“ много веков находилась на вооружении идеологов феодального государства и была использована русской буржуазной наукой. Ныне американско-английские фальсификаторы истории и их белоэмигрантские прислужники – космополиты вновь стараются использовать эту легенду в своих гнусных целях, тщетно пытаясь оклеветать славное прошлое великого русского народа. Но их попытки обречены на провал». Характерно, что эти обличения звучали со страниц солидного академического издания, свидетельствуя о превращении истории в служанку политики.
В середине 50-х – начале 60-х годов такого рода заявления оценивались как вульгаризация и упрощение сложных вопросов исторической науки. Исследование Сказания о призвании варягов продолжалось.
Возникновение легенды о призвании князей Б. А. Рыбаков связал с историей Великого Новгорода: «Стремление новгородцев в XI-XII вв. обособиться от власти киевских князей, широкие торговые связи Новгорода со Скандинавией, использование новгородскими князьями в борьбе с Киевом наемных варяжских отрядов (Владимир и Ярослав в начале их деятельности) – все это в сочетании с тенденцией избирать себе князя и породило в новгородском летописании XI-XII вв. вымыслы о призвании варяжских князей и затем отождествление варягов с русью». Впоследствии Сильвестр, оправдывая призвание Мономаха в Киев, воспользовался новгородской летописью и внес ее рассказ в отредактированную им Повесть временных лет. Рыбаков полагает, что к тому моменту, когда на Севере славянского мира появились варяги, в Среднем Поднепровье уже сложилась Киевская Русь. «Варяги-пришельцы не овладевали русскими городами, а ставили свои укрепленные лагеря рядом с ними». Автор признает реальность Рюрика, но сомневается в двух других героях легенды – Синеусеи Труворе, считая их происхождение анекдотическим. Такое происхождение «братьев» Рюрика «говорит нам и о степени достоверности всей легенды в целом. Она сфабрикована, очевидно, из различных преданий и рассказов, в которых историческая правда сплеталась с вымыслом, окружившим описание событий, происходивших за два столетия до их записи. Источником сведений о Рюрике и его „братьях“, вероятнее всего, был устный рассказ какого-нибудь варяга или готландца, плохо знавшего русский язык». Важно отметить, что Рыбаков допускает наличие «исторической правды» в легенде. Но еще более существенно то, что он выделял норманский период в истории Руси, охватывающий три десятилетия (882-911 гг.), когда «власть в Киеве захватил норманский конунг Олег, ставший на время киевским князем» .[9]
Особую точку зрения на происхождение Руси имел Л.Н.Гумилёв
Славяне селились небольшими группами в деревнях; обороняться от русов, оказавшихся жуткими разбойниками, им было трудно. Добычей русов становилось все ценное. А ценным тогда были меха, мед, воск и дети. Неравная борьба длилась долго и закончилась в пользу русов, когда к власти у них пришел Рюрик.
Биография Рюрика непроста. По «профессии» он был варяг, то есть наемный воин. По своему происхождению – рус. Кажется, у него были связи с южной Прибалтикой. Он якобы ездил в Данию, где встречался с франкским королем Карлом Лысым. После, в 862 г., он вернулся в Новгород, где захватил власть при помощи некоего старейшины Гостомысла. (Мы не знаем точно, означает ли слово «Гостомысл» собственное имя человека или нарицательное обозначение того, кто «мыслит», то есть сочувствует, «гостям» – пришельцам.) Вскоре в Новгороде вспыхнуло восстание против Рюрика, которое возглавил Вадим Храбрый. Но Рюрик убил Вадима и вновь подчинил себе Новгород и прилегающие области: Ладогу, Белоозеро и Изборск.
Существует легенда о двух братьях Рюрика, Синеусе и Труворе, возникшая в результате непонимания слов летописи: «Рюрик, его родственники и дружинники». Дружинников Рюрик посадил в Изборске, родственников отправил дальше, на Белоозеро, сам, опираясь на Ладогу, где был варяжский поселок, сел в Новгороде. Так, путем подчинения окрестных славян, финно-угров и балтов, он создал свою державу.
Согласно летописи, Рюрик умер в 879 г., оставив сына, которого звали Игорь, по-скандинавски Ингвар, то есть «младший». Поскольку Игорь, по словам летописца, был «детескъ вельми» («очень мал»), по словам летописца, власть принял воевода по имени Хельги, то есть Олег. «Хельги» – это было даже не имя, а титул скандинавских вождей, означавший одновременно «колдун» и «военный вождь». Олег с воинами двинулся по великому пути из «варяг в греки»: из Новгорода к югу по речке Ловать, где была переволока, и дальше по Днепру, попутно заняв Смоленск. Варяги Олега и малолетнего Игоря подошли к Киеву. Тогда там жили славяне и стояла небольшая русская дружина Аскольда. Олег выманил Аскольда и вождя славян Дира на берег Днепра и там предательски убил их. После этого киевляне без всякого сопротивления подчинились новым властителям. Это произошло в 882 г.[10]
Глава 4.Современная ситуация
В наши дни к серьезным выводам пришли независимо друг от друга лингвист П. Я. Черных, историки В. Б. Вилинбахов и А. Г. Кузьмин, причем последние двое выводили варягов из западных славян южной Прибалтики - от венедов Поморской Руси (Померании). Археолог П. П. Третьяков на своей картосхеме вовсе не оставляет места славянам, южная Прибалтика западнее устья Вислы у него заселена германскими племенами, а пруссы и венеды отнесены к балтийским, венеды даже к германским племенам!
Одной из последних публикаций, рассматривающих проблему истоков государственности на Руси, является книга Р. Г. Скрынникова "История Российская". Автор не только высоко оценивает вклад скандинавского элемента в строительство древнерусского государства, но и настаивает на постоянном активном влиянии норманнов на характер формирующейся державности Руси; он пишет о "решающем влиянии на эволюцию русского общества" военной организации норманнов". По его мнению, лишь в XI в. славянская "ассимиляция русов (по мысли Скрынникова - норманнов) зашла так далеко, что пришлые скандинавы воспринимались ими как чужеземцы". А. А. Горский рассматривает первое государство восточных славян, как "государство или конгломерат конунгов", то есть князей скандинавских с норманскими же титулами власти, хотя он же признает тот общеизвестный факт, что в упоминаемой иностранными авторами Руси для IX столетий "не названо ни одного имеющего к ней отношения населенного пункта или личного имени", "где располагалась в это время Русь, кто и когда ее возглавлял". Не раз, упомянутый меридиональный, на 1200 км "путь из варяг в греки" по рекам в пределах расселения восточных славян не получил объяснения. Другой автор - В. Я. Петрухин остается на позициях норманиста: он признает призвание норманнов для создания государства восточных славян, толкует термины "варяг" и "русь", как соционимы, то есть как норманских дружинников, а не сам этнос. Антинорманнист Вилинбахов трактовал варягов совсем не как норманнов, и вообще не как скандинавов, а как кельтов из южной Прибалтики.
Байер и его последователи норманисты события из Лаврентьевской летописи толкуют таким образом, что славянские и финно-угорские племена Приильменья, не сумев сами у себя порядка добиться, призвали из-за Балтийского (Варяжского!) моря наемных скандинавских (варяжских!) князей с дружиной. Но право же, Лаврентьевская летопись ни в приведенном выше списке, ни при сравнительном изучении других (например, Ипатьевского, Троицкого, Хлебниковского, Радзивиловского и Новгородского 1-го списков) не дают оснований для подобных толкований.
Лаврентьевская летопись была составлена в 1111-1113 годах по преданиям, при участии или полном авторстве ученого монаха Киево-Печерского монастыря Нестора, никогда не бывавшего в Новгородской Руси и писавшего в данном случае о событиях 200-300-летней давности. В трактовке интересующих нас событий могут быть и даже естественные неправильности, ибо Нестор был здесь отчасти компилятором уже существующей летописи, где отразились также вкрапления предшествующих переписчиков, а в еще большей степени может быть следовал установившейся устной традиции, в которой, как и в каждом фольклоре, возможны варианты. Очевидно, он и сам искал обоснования знатного (княжеского, королевского) происхождения рода Рюриковичей, ибо в XII в. породнившемуся с императорскими и королевскими родами Европы дому Рюриковичей нужно было достойно выглядеть на должном генеалогическом уровне.
И все же нельзя согласиться с утверждением Шаскольского о том, что, "приписывая Байеру создание норманской теории, наши историки тем самым сильно преувеличивают роль этого ученого в русской историографии. В действительности, построение о возникновении Русского государства в результате "призвания варягов" было сконструировано еще на рубеже XI-XII веков составителем Начальной летописи. Байер лишь нашел в летописи это давно возникшее историческое построение и изложил его в наукообразной форме".
Изучение соответствующей антропонимической литературы, позволяет сделать вывод, что имен Синеус и Трувор (Трувол) у скандинавов вовсе не было. Поэтому некоторые норманнисты так трактуют текст Лаврентьевской летописи: Рюрик пришел с "синехюс" и "тру вор" (скандинавские слова - "свои дома" и "верная дружина"). Но ведь и имя Рюрик встречается в скандинавских именниках настолько редко, что современные антропонимические справочники отсылают нас к этому же "Рюрику легендарному в Новгороде", ничего не зная о нем по скандинавским материалам, а при упоминании о самом якобы призвании в Новгород ссылаются только на Нестерову летопись.
Но зачем было славянам призывать к себе для наведения порядка и устройства твердого правления какого-то безвестного князя? Ведь в Скандинавии (Швеции, Норвегии и Дании), как явствует из древнесеверо-германской литературы, никогда не было чем-нибудь примечательного и известного Рюрика, которого можно было бы призвать для этой цели. Наиболее выдающийся из скандинавских Рюриков был мелкий удельный князек в Норвегии, организовавший заговор против короля Олава Харальдссона и, преданный соучастниками, ослепленный по королевскому приказу. Когда же, слепой, он пытался позже заколоть короля ножом, тот приказал сослать его в Исландию, и там этот Рюрик Дагссон умер. Да и время правления Олава Харальдссона (1016-1030) значительно более позднее, чем "призвание варягов".
Представляется, что толковать древние тексты можно лишь привлекая данные многих наук. Не только ономастики (науки об именах собственных) и не только через лингвистические выкладки, иногда пропуская их для "необходимой переплавки" через пласт иноязычных народов, как это делают многие филологи, а главным образом путем выяснения этимологии этих имен собственных из языков местных, современных изучаемой эпохе народов, и соответствия их экологии. Важную контрольную задачу несет, например, археология. Отечественные археологи за полвека проделали гигантскую работу в Приднепровье и в Новгороде. С 1966г. экспедиция А. Ф. Медведева много лет подряд производила раскопки в Южном Прильменье - в Старой Руссе. Попытка некоторых ученых сразу же привязать те или иные археологические культуры к определенным этносам или племенным объединениям не всегда была результативной. И все же раскопки А. В. Арциховского, Г. Ф. Корзухиной, П. Н. Третьякова, В. Л. Янина дали возможность сопоставлять данные письменной истории, ономастики и археологии для более надежной аргументации выводов из Лаврентьевской летописи.
Из сводных сопоставимых данных мы теперь знаем, что в IX в. сквозь пласт балтийских (пралитовско-пралатышских) и финно-угорских племен, занимавших, соответственно, первые - полосу от низовий рек Неман и Западная Двина, между верховьями рек Ловать и Днепр и до верховий руки Оки, а вторые - все земли севернее, вплоть до берегов Северного Ледовитого океана, и восточное, до границы Евразии, - пробились и осели в верховьях бассейнов Днепра, Волги и вокруг Приильменья славянские племена. Археологи считают, что они прибыли с юга, из среднего Приднепровья, некоторые лингвисты (А. А. Шахматов, например) обнаруживали в их языке следы южных диалектов восточных славян.[11]
Заключение
В XVIII в. российские ученые немецкого происхождения, служившие в России Г.З. Байер, Г.Ф. Миллер и А.Л. Шлецер считали, что скандинавское вторжение на земли славян стало решающим фактором возникновения государственности. Первым критиком норманнской теории стал М.В. Ломоносов, который доказывал главенствующую роль славян в создании древнерусского государства. Утверждения Ломоносова получили название антинорманнской концепции и положили начало спорам, которые продолжаются до сих пор.
В XIX веке дискуссия по вопросу об истоках русской государственности была продолжена русскими и зарубежными учеными. По-прежнему основным источником для норманнистов и антинорманистов остаются письменные источники, в основном Повесть временных лет, и по-прежнему все исследователи едины в признании реальным версии летописи о признании варягов новгородцами. В начале XX вв. норманнскую теорию поддерживало большинство ученых, в том числе русских.
Наступление на норманнскую теорию началось в 30-е годы советские ученые. Она была провозглашена антинаучной, объявлена ее политически вредной и непатриотической. При этом отмечалась тенденциозность и «немецкий ученых: Г.З. Байера, Г.Ф. Миллера и А.Л. Шлецера, которые стремились с помощью истории оправдать засилье немцев при русском дворе в XVIII -ХIХ вв.».
В советской историографии можно выделить три подхода к известиям летописи о призвании варягов. Одни исследователи считают их в основе своей исторически достоверными. Другие - полностью отрицают возможность видеть в этих известиях отражение реальных фактов, полагая, что летописный рассказ есть легенда, сочиненная много позже описываемых в ней событий в пылу идеологических и политических страстей, волновавших древнерусское общество конца XI - начала XII века. Третьи, наконец, улавливают в «предании о Рюрике» отголоски действительных происшествий, но отнюдь не тех, что поведаны летописцем. Кроме того, они говорят и об использовании этого предания в идейно-политической борьбе на грани XI и XII столетий.
В настоящее время норманнский вопрос нельзя считать окончательно решенным. Новое поколение учёных включается в старую дискуссию. Известны новые «антинорманнские», а точнее говоря, просто славянские гипотезы формирования Киевской Руси. Появляются и комплексные взгляды на процесс создания государства у восточных славян и роль в этом процессе разных компонентов, в том числе и скандинавского. Настораживает лишь тот факт, что снова решение норманнского вопроса во многом носит политический характер.
Литература
- Анохин Г.И. Новая гипотеза происхождения государства на Руси.// Вопросы истории. Изд.: РАН РФ, 2000, №3, С. 51-61.
- Греков Б.Д. Киевская Русь. Изд.: Государственное издательство политической литератур, М., 1953, С. 18
- Гумилёв Л.Н. От Руси к России. Изд.: ООО «Издательство АСТ», М., 2002, С. 33-34
- Лихачев Д.С. Повесть временных лет, ч. I. Изд.: СПб, Наука, 1999, С. 11.
- Меркулов В.И. Откуда родом варяжские гости? Изд.: Амрита, М., 2005, С. 61-73
- Миллер Г.Ф. Важности и трудности при сочинении Российской истории // Сочинения по истории России. Избранное. Изд.: Наука, М., 1996, С. 394
- Седов В.В. Происхождение и ранняя история славян. Изд.: М., Наука, 1979, С. 7-9
- Фроянов И.Я. Исторические реалии в летописном сказании о призвании варягов. // Вопросы истории. Изд.: РАН РФ 1991, № 6, С. 3-5
[1] Лихачев Д.С. Повесть временных лет, ч. I. Изд.: СПб, Наука, 1999, С. 11.
[2] Седов В.В. Происхождение и ранняя история славян. Изд.: М., Наука, 1979, С. 7-9
[3] Меркулов В.И. Откуда родом варяжские гости? Изд.: Амрита, М., 2005, С. 61-63
[4] Миллер Г.Ф. Важности и трудности при сочинении Российской истории // Сочинения по истории России. Избранное. Изд.: Наука, М., 1996, С. 394
[5] Меркулов В.И. Откуда родом варяжские гости? Изд.: Амрита, М., 2005, С.63-68
[6] Меркулов В.И. Откуда родом варяжские гости? Изд.: Амрита, М., 2005, С.68-69
[7] Меркулов В.И. Откуда родом варяжские гости? Изд.: Амрита, М., 2005, С. 69-73
[8] Греков Б.Д. Киевская Русь. Изд.: Государственное издательство политической литератур, М., 1953, С. 18
[9] Фроянов И.Я. Исторические реалии в летописном сказании о призвании варягов. // Вопросы истории. Изд.: РАН РФ 1991, № 6, С. 3-5
[10] Гумилёв Л.Н. От Руси к России. Изд.: ООО «Издательство АСТ», М., 2002, С. 33-34
[11] Анохин Г.И. Новая гипотеза происхождения государства на Руси.// Вопросы истории. Изд.: РАН РФ, 2000, №3, С. 51-61.






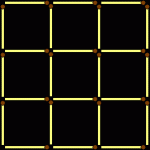







 (zip - application/zip)
(zip - application/zip)










